Шел редкий снег. Прилегающие к домам улицы были совершенно пусты. Стекла во многих окнах домов были разбиты, заколочены фанерой, и от этого панельные пятиэтажки казались нежилыми. Лавочки возле подъездов были покрыты белым нетронутым снегом. Над домами нависало низкое пасмурное небо, и время от времени в этом небе раздавались тяжелые раскатистые удары.
Конец января, минометный обстрел, центральный район города Горловки.
Подстанция сгорела, электричества в районе не было. Говорят, что во время блокады Ленинграда, после голода и холода, тяжелее всего переносилась темнота. Постоянная темнота парализует волю человека, в зимние месяцы темнеет рано, весь жилой массив погружается в черноту, взгляд интуитивно ищет хоть какой-нибудь источник света, но его нет: нет даже огоньков свечей в окнах, потому что все люди в подвалах.
В подвале девятиэтажного дома по улице Кирова сейчас находилось около пятнадцати человек. Обычная панельная девятиэтажка типовой застройки, - с вечно забитым мусоропроводом, с неработающим лифтом, с детскими колясками в коридорах на лестничных площадках. Тусклый свет проникал в подвал через небольшие отдушины. На трубах неработающего отопления виднелись застывшие пятна воска от сгоревших свечей. Люди прятались в подвалах всю страшную зиму пятнадцатого года, в полумраке повсюду можно было заметить лежаки из досок или просто из вороха тряпок; стоящие на трубах закопченные кастрюли и чайники.
Со времен блокады Ленинграда, с той последней великой войны прошло более полувека, человечество в научно-техническом прогрессе шагнуло в невообразимые дали, были выдуманы и сделаны тысячи самых разных вещей, но вот пришла новая война и оказалось, что ничего этого не надо, что главными ценностями в жизни человека так и остаются всё те же свечи, керосиновые лампы, дрова для наспех изготовленных буржуек и фонарики. Да еще алюминиевая кастрюля, в которой можно кипятить чай на костре во дворе…
Ахнуло где-то неподалеку. Отзвук разрыва тугой волной проник через отдушины в подвальное помещение.
- По всей Горловке кладут. Минометами. По жилым кварталам бьют, - ни к кому конкретно не обращаясь, произнес сидящий у отдушины худощавый пожилой мужчина с недельной щетиной на щеках. - Одного не пойму, то ли у них корректировщики слепые, то ли стволы такие раздолбанные, что рассеивание на пять километров. Сиди и жди, когда прилетит. Это ж такие нервы, что терпеть невозможно….
Неподалеку от мужчины расположилась молодая женщина лет тридцати, с выкрашенными под блондинку волосами с темными отросшими корнями. Мать-одиночка из восьмой квартиры. Лицо у женщины было несчастным. На ее руках спала трехлетняя дочь в синем пуховом комбинезоне с надетым на голову капюшоном. Рядом сидел старший ребенок, - мальчик лет восьми. Худощавое лицо, вязаная шапочка, рукав куртки густо испачкан побелкой. Как и все, мальчик прислушивался к отзвукам глухих ударов, поглядывая на спящую сестренку и маму.
Мальчик знал, что у мамы при обстрелах начинается животный страх, который она никак не могла перебороть. Спящую сестренку прижимала к себе так, словно не она дочери, а наоборот, дочь передавала ей свои силы. Воображение помимо воли рисовало одну и ту же картину… Вот, где-то далеко-далеко, за десяток километров заснеженные позиции, возле выкрашенной в грязно-зеленый цвет пушки суетятся люди в камуфляже, затем они отбегают назад, приседают, закрывая ладонями уши, и пушка, подпрыгнув, страшно бьет в низкое серое небо. С низким гудением летит по дуге тяжелый снаряд, приближается к их панельному дому все ближе и ближе.
И представлялось, как прямо сейчас, вот в эту секунду, снаряд попадет в их дом, в самую неустойчивую точку. Зазвенит в ушах, посыплется сверху бетонная крошка, стены девятиэтажки задрожат, где-то над головой с нарастающим грохотом начнут рушиться перекрытия, падать вниз балконы, и панельный дом осядет на землю в куче пыли, заживо погребая под обломками и ее, и сына, и дочь.
Надо бы переключить мысли на что-нибудь другое, но воображению не прикажешь. Остальные сидят спокойно, во всяком случае, внешне, а ее душит страх. Как была трусихой с детства, так ей и осталась. Полчаса назад одна из мин ахнула прямо возле подъезда, оставив после себя воронку и посеченный осколками асфальт, вторая попала в соседнюю пятиэтажку. Кроме страха за себя и детей, молодую женщину еще мучил страх за их квартиру на втором этаже. Матерь Божья помоги ей невезучей, защити; лишь бы не попало туда, лишь бы не увидеть после обстрела на месте квартиры сорванные двери, пыль бетона и дым. Тогда возвращаться из подвала им будет просто некуда.
- Вторые сутки без перерыва, - продолжал сидящий у отдушины мужчина. – А то, что здесь люди сидят голодные, с детьми, всем на это наплевать. Стреляют и стреляют…. Может, прорыв начался? Не дай Бог, танки в город войдут. Если завяжутся уличные бои, нам отсюда точно живыми не выбраться.
Мужчину явно тяготило всеобщее молчание. Есть такой тип людей, - при нервном напряжении им все время хочется говорить. При обстрелах надо держать свои эмоции при себе; не нагнетать излишнюю нервозность, но мужчина явно не мог сдержаться, вслух озвучивая затаенные страхи каждого.
- Больше всего Бессарабке достается, - бормотал он вроде про себя, но так чтобы его слышали остальные. - Горит, наверное, Бессарабка. Туда ночью Грады били. Частный сектор, - хорошо у кого глубокие погреба есть. А у кого нет? Лежи на полу, - все равно, что посреди улицы. В прошлый обстрел мамашу там одну нашли с ребенком. Прямое попадание. Мамаша еще ничего, - есть что хоронить, а от ребенка один оторванный язычок. Остальное каша. Так в пакетик положили и закопали….
- Да замолчи ты. И без тебя тошно, - прикрикнула на него одна из женщин.
Обычно обстрелы начинались после трех часов дня и заканчивались где-то под утро. В этот промежуток можно было покинуть подвал и заняться насущными делами, - узнать, привезли ли в город гуманитарную помощь, и если привезли, то где ее выдают, в давке отстоять огромную очередь и получить по талону два килограмма макарон, сахар, банку рыбных консервов и литр растительного масла.
Еще в город иногда привозили детское питание; в нескольких оставшихся работать магазинах продавали молоко, еще были родные и знакомые, которые могли поделиться продуктами. Беда объединяет людей, если, конечно, она не затягивается надолго: где-нибудь, хоть на другом конце заснеженного города можно было раздобыть банку закатки или килограмм крупы, а значит накормить детей. Хоть как-то выкрутится, потому что у сидящих в подвале людей не осталось ни крошки продуктов. И дома, в выстуженных и пустых квартирах тоже ни крошки. Но сейчас обстрел длился уже более двух суток без перерыва, чуть затихнет, и опять где-то ахнет, и было совершенно неизвестно, сколько это еще продлиться, - может день, а может неделю.
Трехлетняя девочка на руках матери пока спала, но молодая женщина с крашенными под блондинку волосами очень ясно себе представляла, как скоро дочь проснется, сядет на колени, и тихо, шепотом, стесняясь чужих людей, начнет просить, - «мама, есть хочу». Сын, тот будет молчать, а ей, маленькой, не объяснишь, что надо терпеть, она не понимает, что наверху идет война. Одно из самых страшных переживаний на свете: полное бессилие родителей, когда ребенок просит есть, а накормить его нечем, хоть бейся головой об стену. Будь прокляты все войны отныне и навеки!
- А я вчера очередь в храме заняла, - произнесла в полумраке пожилая женщина, закутанная в пуховой платок. – В кафедральном соборе, что на Кирова. Туда по ночам машина с мукой приезжает. Пекут хлеб и выдают по две буханки на руки. И сейчас, наверное, выдают, у них и при обстрелах пекарня работает. Но как туда дойти?
- Был я там на днях, - мгновенно встрепенулся притихший было мужчина у отдушины. – Внутри народу - не протолкнуться. Все подвальные помещения забиты, сидят один на одном, каждая вторая с грудничком. Но хлеб дают, - это точно. Грузин один печет, раньше на центральном рынке лавашами торговал. Сейчас при храме. Семью в Ростов вывез, а сам остался…
О том, что в Кафедральном соборе Горловки раздают продукты, знали все. С начала боев, когда перестали работать магазины и аптеки, когда город оказался в оперативном окружении, настоятель храма взял на себя ответственность заботиться обо всех нуждающихся в городе. Доброе дело только начни, - сразу поддержат неравнодушные. Нашлись в разных концах когда-то единой страны люди с деньгами, которым не все равно; нашлись смельчаки, которые стали по ночам привозить по насквозь простреливаемым дорогам в храм муку и крупы, лекарство и детское питание. Поставили полевую кухню. Когда не было обстрелов, в храме кормили по тысяче человек в день. Пекли хлеб. Все подвальные помещения церкви были оборудованы под бомбоубежище, окна заложены мешками с песком.
При обстрелах в храме звонили колокола. Летели в центральный район города реактивные снаряды, гремело и сверкало вокруг, горели дома, а в промежутках тишины между разрывами, разносился над крышами, уходил в низкое зимнее небо раскатистый звон набата. Так и представлялось, как на высокой колокольне, среди наметенного снега, мечется, дёргает за веревки человек в черной рясе. Словно спешит сказать людям, - «прячьтесь, бегите в подвалы; кто не успел, ложитесь на пол, отползайте от окон, закрывайте собой детей».
Каждый на этой непонятной войне искал ответ на свой главный вопрос – зачем он остался здесь? Звонарь на колокольне его нашел, как и настоятель, как и тот пекарь-грузин, бесплатно пекущий хлеб для тысяч людей; как многие другие, не сумевшие бросить все и уехать просто потому, что они здесь кому-то нужны.
- Слышал я недавно историю про этот храм. Люди рассказывали, - зло произнес молчащий до этого заросший седой щетиной мужчина, сидящий на сделанном из досок топчане. – Одна мамаша своего пятилетнего ребенка за хлебом туда послала. В обстрел! Люди, которые с ней в подвале были, вначале не заметили, потом спохватились, кричат на нее, - «ты что наделала?», а она забилась в угол, трясётся и твердит, - «я сама не могу, я сама боюсь…». Хорошо, ребенка по дороге какие-то военные перехватили.
- А что таким мамашам? Еще нарожают, - произнес чей-то женский голос из полумрака.
На какое-то время все отвлеклись, обсуждая поступок нерадивой мамочки. Восьмилетний мальчик, сидящий возле своей мамы и спящей сестренки, почти не прислушивался к голосам взрослых. Перед глазами встали два кирпичика свежевыпеченного пшеничного хлеба с золотистой поджаристой корочкой, которые прямо сейчас раздают людям в храме. Хлеб виделся настолько ясно, что, казалось, в затхлом воздухе подвала дохнуло запахом горячей выпечки.
И еще представилась дорога до храма. По каким улицам туда идти мальчик точно не знал, но твердо помнил, что со двора их школы прекрасно виден черный с золотой вязью купол с крестом на вершине. Надо было пробежать несколько кварталов до школы, а там купол укажет направление.
Завораживающая своей смелостью мысль пришла неожиданно и накрепко закрепилась в сознании. Стреляют не часто, громыхнет пару раз, затем тишина, после опять ахнет, но уже где-то в другом месте. Вполне можно проскочить. Весь путь туда виделся каким-то мгновенным, зато победное возвращение представлялось до мельчайших подробностей. Вот он спускается в подвал, в руках две буханки хлеба, в помещении полная тишина, соседи изумленно молчат, а глаза матери светится благодарностью и еще пониманием, что он уже не маленький, что отныне и навсегда он стена, опора и защита; ангел-хранитель для нее и сестрёнки.
Картина возвращения рисовалась настолько соблазнительной, что ни о чем другом думать больше не хотелось.
- Одна какая-нибудь все никак родить не может, годами ребенка себе вымаливает, с детского дома берет, трясется над ним, - лишь бы был ребеночек. А другая собственное единокровное дитя под минометным обстрелом на улицу выгоняет, потому что маме есть хочется, - в подвале продолжались разговоры, вызванные обсуждением поступка неизвестной женщины.
- Я бы таких смолой обмазывал и по улицам прогонял, что бы все люди увидели, - какая она есть. Что бы позор на всю жизнь!
- Вроде притихло как-то… Может, на сегодня закончили?
- Ага, жди… Через пару минут опять прилетит.
- В Донецке возле центрального автовокзала есть «Макдональдс», - рассказывал в темноте в дальнем углу чей-то негромкий голос. – Так местные таксисты говорят, что это самое безопасное место в городе. Мол, по своим стрелять не будут.
- Да байки всё это…
«От подъезда через детскую площадку к пятиэтажкам», - повторял в уме мальчик. – «Там через дворы до школы». Пришедшая в голову идея толкала на действие. От нарастающего внутреннего возбуждения по всему телу пошел озноб. В это время проснулась сестренка, открыла глаза, в которых еще плавали обрывки сна, непонимающе огляделась кругом, села на коленях матери и что-то тихонько прошептала ей на ухо. Мама поднялась и повела дочку в соседнее помещение, где стояло ведро, которую использовали как туалет.
Медлить дальше было нельзя. Спросить у мамы разрешение выйти на улицу, особенно после рассказов о той женщине представлялось совершенно немыслимо.
Мелькнула темной змейкой мысль о том, что будет, когда мать увидит, что его нет в подвале, но мальчик тут же постарался изгнать эту мысль из сознания. Он поднялся на ноги и медленно прошелся по помещению, словно разминая затекшие ноги. Затем так же подчеркнуто неспешно вышел в подвальный коридор. В конце коридора находилась лестница и дверь выхода в подъезд. Еще не веря, что он способен на такой поступок, до конца не осознавая, что мысленная игра похода к храму вот-вот превратиться в реальность, в тайне даже желая спасительного окрика матери, - «ты куда?», мальчик, не спеша, поднялся по лестнице, и оказался на площадке первого этажа.
В подъезде было тихо, голоса из подвала сюда не проникали. Под лестничным пролетом виднелись трубы отопления, когда-то живительно горячие, сейчас покрытые инеем. Из-за отсутствия электричества кодовый замок на входной двери не работал, металлическая дверь оставалась приоткрытой, на ступенях лестницы белел наметенный снег.
- «Через дворы до школы» - на секунду замерев возле дверей, вновь шепнул себе мальчишка и, чувствуя, как внутри все холодеет, вдохнув побольше воздуха, словно он собирался нырнуть, выскользнул наружу.
***
Ду, ду…ах… Уххх..., - гремела, ухала, расходилась гулом по всему городу северная окраина.
Улица была мертвенно пуста. Возле соседнего подъезда навечно остался стоять чей-то автомобиль самого заброшенного вида. Пустая детская площадка, построенная незадолго до войны; качели с ярко-красными запорошенными сидениями. И ни одного следа на девственно белом снегу.
Сам длинный мрачный девятиэтажный дом со стороны выглядел совершенно нежилым. Стекла на многих окнах были разбиты, забиты фанерой или затянуты пленкой, которая оторвавшись, чуть колыхалась от сквозняков. В соседнем доме, на третьем этаже, куда сегодня попал снаряд, в стене зияла дыра, там еще что-то дымилось, тлело под битым бетоном, вверх по панели тянулись чёрные языки копоти.
Уххх… дум… аххх…, - отдаленными мощными раскатами гремел север. Здесь пока было тихо. Падал снег, снежинки залетали в разбитые окна. За детской площадкой виднелись такие же опустевшие пятиэтажки. Путь к школе лежал через их дворы.
Стараясь не растерять решимость, мальчишка изо всех сил побежал в том направлении.
Мысли были короткие, несвязанные, перескакивающие одна на другую. Во-первых, он постоянно спрашивал себя, -«не страшно?», и сам же себе мысленно отвечал: «Не страшно». Во-вторых, в сознании почему-то постоянно всплывало размытое временем лицо отца. Папа ушел из семьи два года назад. Мама так и не смогла ему простить все мелкие и крупные обиды, в ее глазах он оставался пустым безответственным неудачником. «Что это за мужчина, если он не способен позаботиться о своей семье», - не раз и не два повторяла она, не желая признавать, что не все радужные мечты молодости непременно должны сбыться, обижаясь на жизнь, которая подсунула ей пустышку вместо принца.
Какой-нибудь взвешивающий, измеряющий, препарирующий детское подсознание психолог сразу бы сказал, что поступок мальчика, бегущего сейчас изо всех сил по заснеженной улице вызван неосознанным желанием что-то доказать своему далекому отцу. Но на деле мальчик просто хотел есть, хотел накормить мать и сестру, порадовать их, а еще больше, он просто верил, что способен добежать до храма и вернутся живым, - что он сможет сделать это. А раз сможет, - значит должен.
Так думают мужчины.
Кругом не было ни души. Мальчишка в пять минут добежал до пустынной улицы, где торцом стояли пятиэтажные дома, пересек пустырь, проскочил между гаражами и побежал через дворы пятиэтажек, за которыми должен был открыться сквер, а дальше школа.
Взгляд с необычайной яркостью отпечатывал в памяти мелькающие фрагменты: голые кусты сирени, нетронутые следами проходы между домами, двери подъездов, заклеенные никому ненужными объявлениями. Снег по щиколотку там, где раньше были всегда протоптанные тропинки.
Выбоины осколков на бетонной стене одного из домов, а в разбитом окне на первом этаже иконка какого-то святого ликом наружу.
До школы оставалось еще далеко. «Еще немножко и надо остановиться, иначе задохнусь», - приказал себе мальчишка, хватая морозный воздух оскаленным как у волчонка ртом. Сердце бешено билось.
И в этот самый момент где-то совсем рядом ахнула мина. Удар был настолько громкий и неожиданный, что мальчишка присел. Рвануло за домами, звук волной разошелся по кварталу, с какого-то балкона полетела вниз шапка снега.
Вернулись все звуки, заглушенные тяжелым дыханием и топотом ног, - было слышно, как звякая, падают на асфальт осколки стекол с задней стороны дома.
На несколько мгновений мальчишка застыл посреди дороги, оставаясь в нелепом присевшем положении, словно в игре «море волнуется раз…». Бежать уже не представлялось возможным, он вслушивался в окружающее пространство, обостренно отмечая самый малейший и отдаленный звук. Захотелось как можно меньше шуметь, унять собственное дыхание. Спиной, затылком, самой кожей мальчишка пытался уловить любое движение воздуха, а взгляд интуитивно искал укрытие: какую-нибудь яму, канаву, но ничего похожего рядом не было.
В голову пришла совершенно нелепая мысль, что его сейчас видят; что где-то за городом, на господствующей высотке, человек в военной форме, имеющий приказ стрелять во все, что движется, смотрит сейчас на него в бинокль, каким-то чудом проникая взглядом через все пространство города, через стены и крыши домов. Со звуком похожим на звук катящегося шара по желобу, опустится в ствол миномета хвостатая чугунная мина, раздастся хлопок, и небо над головой мальчишки наполнится протяжным свистом.
Ощущение, что его видят, было настолько явственно, что мальчику невыносимо захотелось лечь на асфальт и закрыть голову руками.
Это была одиночная мина. Север продолжал греметь, но далеко и не страшно, здесь вновь воцарилась тишина. Крадучись, пригнувшись, продолжая вслушиваться в эту тишину, мальчик медленно и осторожно продолжил движение по двору между двумя длинными домами. Здесь он впервые по-настоящему подумал о маме. Представилось, как она возвращается с сестренкой в наполненное людьми подвальное помещение, ищет сына глазами, и во взгляде её пока ещё не страх, а растущее недоумение. Она будет расспрашивать сидевших рядом соседей, придумывать множество самых невероятных предположений, куда он мог деться, но то, что её сын сейчас на улице, ей придет на ум в самую последнюю очередь.
И вот что будет тогда, мальчик даже боялся себе представить.
Ему захотелось немедленно повернуть назад. Пронзительно защемила совесть. От осознания того, что он наделал, лицо мальчишки исказилось как от боли. Стали не важны ни хлеб, ни приятные мысли о собственной смелости, больше всего на свете ему сейчас хотелось вернуться в подвал и успокоить мать.
В следующую минуту он бы наверняка повернулся и побежал обратно к дому.
Но тут его внимание привлекло нечто непонятное, виднеющееся впереди на асфальте.
Пожилая женщина лежала на земле, головой к бордюру. Было понятно, что она лежит здесь уже давно, может быть с вчерашнего вечера; нетающий снег покрыл ее пальто и лицо белым слоем. Одна рука женщины была откинута в сторону, покрытые снежинками пальцы намертво сжимали ремешок от сумочки. Сама сумочка валялась в метрах десяти, едва заметная под наметенным снегом.
Ближайшее к женщине дерево было посечено осколками, кругом валялись срезанные ветви.
Это было так неожиданно и страшно, что мальчишка замер на месте. До этого он видел мёртвого человека только на похоронах. Похороны отложились в его памяти неким таинством, - строгое молчание процессии, люди в чёрном, священник, отпевающий загадочные, космического значения слова. Мёртвый в гробу не пугал; он упокоился, закончил своё земное пребывание, и люди несли его тело в последний путь. Но сейчас все было совершенно по-другому. Убитая женщина лежала посреди города, и никому не было до неё дела. Машинально мальчик оглядел соседний дом, словно надеялся увидеть в его окнах хоть одно живое лицо, но все окна пятиэтажки были совершенно пусты или наглухо забиты фанерой.
Падал снег, стояла полная тишина, даже на окраине перестали стрелять. Серое небо давило какой-то беспросветной безысходностью. Совершенно не зная, что надо делать в таких случаях, мальчик медленно приблизился к мёртвой. Память отмечала малейшие детали; он увидел, что при ударе с ног женщины сорвало обувь. Одна из туфель: нищенская, стоптанная, не по сезону легкая, отлетела в кусты при дороге. Шапка тоже слетела, обнажая седые, покрытые снегом волосы.
- «Не смотри ей в лицо», - предостерегающе шепнул внутренний голос.
И в этот момент в тишине раздался какой-то странный звук.
Он исходил непонятно откуда, - низкий, гудящий, вибрирующий. «Мина», - в полном смятении успел подумать мальчишка и вжал голову в плечи, ожидая страшного неминуемого удара. Но ничего не произошло. Нигде не грохнуло, не сверкнуло ярким светом. А звук остался. Он еще мгновение погудел, а затем вдруг сменился нелепой, веселой, приглушенной мелодией.
Не понимая, откуда он исходит, мальчишка метнул взгляд в небо, потом быстро огляделся по сторонам, и лишь затем, постепенно осознавая, что происходит, перевел глаза на лежащую женщину.
В кармане ее пальто звонил, вибрировал, освещал светом внутренности кармана мобильный телефон. Кто-то пытался дозвониться до мёртвой.
В следующую секунду мальчику показалось, что женщина сейчас сядет на землю, и поднимет на него залепленное снегом лицо. Стало страшно до слабости во всем теле. Не разбирая дороги, не прислушиваясь к возможному свисту снаряда, не думая больше ни о чем, кроме как оторваться от покойной и звуков звонка её телефона, мальчик рванул вперед, перескочил через какой-то палисадник, и изо всех ног побежал по пустынной улице, лишь через какое-то время сообразив, что бежит не к дому, а к храму. Но сейчас это было уже не важно. В храме находились живые люди, они сопроводят его обратно домой, они были нужны ему, потому что ему казалось, что он остался совсем один в этом огромном мертвом городе.
***
Школа, в которой учился мальчик, была построена еще в семидесятых годах. Два корпуса, соединённых переходом, сверху походили на букву «П». Слева находился небольшой сквер. Раньше на дорожках сквера всегда можно было видеть голубей. Они слетались огромной стаей, когда кто-то начинал крошить им хлеб, толкались прямо у ног, ворковали и пытались сесть чуть ли не на руки. Теперь здесь не было даже голубей. Городские птицы боялись обстрелов не меньше, чем люди, сейчас они сбились в кучи на чердаках ближайших домов и сидели там тихо, не подавая признаков жизни.
На территории школы было безжизненно, как и везде. Пустыми стояли выстуженные классы, длинные коридоры, спортзал и учительская. Стекла на окнах разбиты. Школьная площадка заметена нетронутым снегом. Оттуда, со школьной площадки, как и с каждого окна класса, хорошо был виден возвышающийся над домами огромный, черный, с золотой вязью, купол кафедрального собора Горловки.
Есть мнение, что церковные купола в форме маковки символизируют пламя горящей свечи. Есть и другое объяснение форме куполов православных храмов: что это капля благодати, - полная капля, запечатленная в тот самый момент, когда она срывается с неба на святое место. Может и так. Неизвестно почему, но после перестройки новые церкви на Донбассе начали строить не с золотыми, а именно с чёрными куполами, словно кто-то заранее предчувствовал цвет капли тёмных испытаний, нависшей над этим краем.
Прямо возле школы мальчик напоролся на танк.
Огромный, приземистый, с белыми пятнами наметенного снега на корпусе, танк стоял в скверике, заехав на пешеходную дорожку, вывернув бордюр. Башня и дуло были повернуты в сторону. Зеленые кирпичики защиты на башне делали его похожим на гигантскую бронированную черепаху. На гусеницах лохмотьями висели комья примёрзшей грязи.
Казалось, что танк брошен людьми. Все люки были наглухо закрыты, двигатель молчал. Но внутри тесной и выстуженной кабины, без сомнения, шла своя тайная, незаметная снаружи жизнь: шумела помехами рация, от остывающего двигателя еще источался жар и вымотанный бессонницей экипаж ждал команду - в какую сторону им двигаться в бой. Заехав в сквер, танк прятался от беспилотников среди голых деревьев.
Завидев танк, мальчик перешел на шаг. От быстрого бега ему было жарко, кровь стучала в висках. Сразу вспомнился недавний разговор в подвале о каком-то ребенке, вышедшем на улицу в обстрел. Его вроде забрали военные. И мальчику захотелось, чтобы его тоже сейчас остановили, отвели бы куда-нибудь в жарко натопленное расположение, где не страшно и где люди, а потом бы отправили домой. Ни о каких подвигах мальчик больше не мечтал.
Но его так никто и не окликнул.
Возможно, взрослые в танке с удивлением разглядывали сквозь смотровые щели приближающегося к ним худенького мальчишку в вязаной шапочке, в полном одиночестве идущего куда-то по улице, когда весь город спрятался в подвалах. Но в данный момент экипажу было не до него.
Мальчик еще не успел дойти до танка, как тот вдруг взревел двигателем на весь квартал и выбросил вверх струю чёрного дыма.
Загудела гидравлика, поворачивая приплюснутую башню. Грязно-зеленая бронированная машина дернулась, встала, а затем, гремя гусеницами, набирая скорость, поехала по улице в направлении собора. Позади белой дымкой летела снежная пыль, сдуваемая с корпуса. Через минуту от танка остались лишь два широких следа на снегу, и еще долго по округе разносился постепенно затухающий рев двигателя.
Мальчишка снова остался один. Не осталось и следа от той решительности, с которой он покинул подъезд. От чувства беспросветного, какого-то космического одиночества ему хотелось заскулить, как потерявшейся собачке. Он был совершенно один на всей земле, под серым низким небом.
Надо было бежать дальше, но сил не осталось, легким не хватало воздуха. По куполам возвышающимися над серыми хрущевками было видно, что до храма оставалось не больше двух кварталов. Пустая улица, следы танка, вдалеке автобусная остановка, столбы осветительных фонарей, на одном из которых, несмотря на день, светилось тусклое пятно непогасшей лампочки.
Взгляд машинально отметил горящий фонарь и чувство одиночества и незащищенности только усилились. С взрослой рассудительностью мальчишка понял, что раз здесь свет, в этом районе осталось электричество, а значит, двери всех подъездов закрыты на кодовые замки. Стучи в них хоть головой, никто тебя не услышит, потому что люди в подвалах.
Раньше у него оставалась надежда, - чуть что, нырнуть в какой-нибудь подъезд, теперь надежды на укрытие у него не осталось.
И как только об этом подумалось, где-то за домами ударил тугой танковый выстрел. И тут же загрохотало в самых разных местах, гулким эхом расходясь по крышам. Впереди по улице, метрах в пятидесяти, не больше, вдруг появилось и расползлось по дороге низкое белое пятно дыма; с треском, словно кто-то разорвал над ухом мальчишки гигантское полотно, ахнул разрыв, фыркнуло и пролетело что-то рядом. Еще одна мина, оставляя после себя протяжный свист, ушла куда-то в скверик, по дорожке запрыгали срезанные ветви и щепки деревьев, а в голове после разрыва остался непрекращающийся тонкий звон.
Все это мальчик успел увидеть каким-то чудом оказавшись лежащим на земле, сжимающим голову руками, лицом в снег, не чувствуя его мерзлоты. В обычном понимании этого слова страха не было, было какое-то оцепенение, сознание выключилось, все делало тело. Ухало, трещало и шипело по всему району, минометы накрывали большой квадрат, выбраться из зоны обстрела не представлялось никакой возможности, без всякого участия мысли тело само искало спасения, и мальчишка полз по земле к ближайшему дому, замирая после каждого разрыва и даже зачем-то кусая землю.
Попало в угол стоящей за дорогой от школы пятиэтажки. Полетели куски бетона, угол словно срезали, обнажая черную дыру в чьей-то квартире. Во дворе дома мальчишка поднялся на ноги и побежал; пригибаясь, закрывая голову руками, затем снова упал и полз, не помня себя. Тело искало любого укрытия, даже самого иллюзорного; если бы на дороге сейчас оказалась бы какая-нибудь простыня, или кусок картона, мальчик тут же закрылся бы ими с головой, словно они могли защитить его от осколков, от летящего вниз стекла, от страшных ударов разрывов, от которых подкидывало на асфальте.
Сколько длился обстрел, он не знал. Ничего не помнил. Полз, вставал, бежал, жался к стенам домов, плакал, что-то обещая Господу, если останется жив, а что - не помнил. В какой-то момент сознание вернулось, словно вынырнуло из тумана, он осознал, что стоит, прилипнув к стене какого-то дома, а сверху, на втором этаже работает телевизор.
Сознание вернулось, потому что наступила минута тишины. Звуки работающего телевизора, - чей-то смех, женские голоса доносились из окна, затянутого пленкой, - сейчас пленку сорвало, и в окно залетали снежинки. Это было так неожиданно, что мальчишка вначале не понял, что это. Голоса из телевизора воспринимались как звуки из другого мира, с другой планеты.
В одну секунду мальчик ясно представил себе квартиру наверху. Выстуженная комната, включенная газовая горелка, - если газ ещё подавали к этому дому, старая мебель, неубранная постель, посреди комнаты кресло, а в кресле неподвижно сидит старушка в зимнем пальто, замотанная шерстяным платком и, неотрывно, смотрит в экран. Может быть, она больна, может у нее отказали ноги, но она не спустилась в подвал вместе с другими жильцами, которые наверняка забыли о ней, и теперь сидит у телевизора, смотря все программы подряд, включив звук телевизора на полную мощность, чтобы не слышать, как совсем рядом ахают мины, пытаясь забыться, уйти, спрятаться от страшной действительности.
Минута тишины закончилась. Мальчишке бы пробежать как можно дальше к храму, а он стоял, прилипнув к стене, задрав вверх голову, и вслушивался в голоса телевизора, как в волшебные звуки из какой-то другой, давно забытой реальности.
Снова ударило где-то рядом. Мина упала за дом, за которым стоял мальчишка: десять килограммов чугуна, свистя и шурша, разлетелись на мелкие осколки, пробивая фонарные столбы и деревья, залетая в оконные проемы, вспарывая стены пустых квартир с отсыревшими обоями. Следующей миной мальчишку могло разорвать в клочья.
И опять он бежал, падал, вставал, полз по присыпанному снегом асфальту.
Прошло всего пятнадцать минут с тех пор, как он вышел из подвала, - ничтожный отрезок времени, а ему казалось, что прошла целая вечность, - долгая жизнь, и не одна, а совсем недавнее прошлое в этом подвале воспринималось им, как нечто далекое и смутное, затушёванное, как сон.
Церковный староста кафедрального собора Горловки, немолодой мужчина, оставшийся вместе со всеми пережидать обстрел, на минутку поднялся из нижнего храма по ступеням лестницы в боковой притвор. Мужчиной двигало волнение за свою семью. Семья осталась дома, в другом районе, в подвале храма мобильная связь не работала. Ему надо было подняться как можно выше и попытаться поймать хотя бы одну черточку на экране телефона.
Прижимая телефон к уху, и слыша только упрямо повторяющийся женский голос, - «линия перевантажена, будь ласка, зателефонуйте пизнийше», староста приоткрыл дверь и выглянул на улицу.
На улице гремело, по району разносились тяжелые удары минометов. Повсюду было бело от снега. Взгляд мужчины рассеяно пробежался по пустому церковному двору, перешел за чугунную решётку и вдруг стал напряженным и внимательным.
За решеткой, по открытому пространству проезжей части к храму бежал маленький человек.
Он бежал медленно, пригнувшись, еле передвигая ноги. Протяжно свистнула мина, словно оставив в сером небе след своего звука, ахнула где-то за поворотом, но маленький человек даже не обернулся на разрыв. В одну секунду староста понял, что это ребенок. Мальчик забежал в ворота чугунной ограды и, не замечая приоткрытую боковую дверь, наискосок двинулся к центральному входу в церковь, не зная, что он закрыт.
В следующее мгновение староста уже бежал к нему.
- Ты что, пацан? Ранен? Где больно? – подбежав, мужчина быстро ощупал мальчишку. На вид мальчику было лет десять, - лицо бледное, сквозь куртку прощупывалось худое тельце, шапку он где-то потерял, волосы были запорошены снегом. Рукава куртки оказались порванными, штаны на коленях тоже, там краснели кровавые ссадины от ползанья по асфальту. Других повреждений заметно не было.
– Где твои родители? Попали под обстрел? Лежат на улице? Ты почему один? – сыпал вопросами староста, быстро ведя мальчишку в дверь бокового притвора храма.
Мальчишка ничего не отвечал, тяжело дыша.
- Как тебя зовут? Где ты живешь? Где твои родители? Куда ты бежал? - продолжал староста, оказавшись с ребенком за спасительными толстыми стенами церкви.
- Я за хлебом, – с трудом ответил мальчишка. В его глазах застыла какая-то отрешенность.
- Какой хлеб, весь район накрывают, – близкое лицо мужчины исказилось словно он хотел от души выругаться. – Кто тебя послал? Ты что, бессмертный?
- Я за хлебом. Хлеб у вас остался? – сглотнув, упрямо повторил мальчишка.
***
Крутые ступени вниз, низкие своды, толстые бетонные стены, - чем ниже, тем сильнее чувство безопасности. Все хорошо, уже абсолютно не страшно, только руки трясутся.
Разрывы доносятся сюда глухим безобидным звуком. В подвале храма полно людей. Свет есть, на стенах золотом поблескивают иконы, на мраморном полу сидят, лежат женщины, мужчины, старики. С котомками, с целлофановыми пакетами пожитков, со своими одеялами. И еще полно детей. Особенно грудных. Кажется, каждая вторая женщина с ребёнком на руках. Под сводами несмолкаемый гул голосов.
Переступая через лежащих людей, староста привел мальчика под колонну в конце зала, указав место на полу.
Затем ушел и вскоре вернулся с двумя буханками остывшего хлеба.
- На, - протянул он хлеб мальчишке. - Кашу сегодня не варили, крупы нет. Ешь. Сиди здесь и не вздумай никуда выходить! Скоро стемнеет, а ночью, - сам знаешь… До завтра посидишь, с утра, Бог даст, утихнет, сам тебя обратно отведу. Даже не вздумай уйти отсюда, понял?! Позвонить бы твоей матери, сказать, чтобы не беспокоилась, да связи нет. Своим не могу дозвониться, не знаю, - живы они там… Ладно, в общем, будь здесь, на этом самом месте. Где туалет, люди подскажут. Постарайся уснуть.
Староста хотел еще что-то сказать, но передумал. Он внимательно посмотрел на мальчишку, затем махнул рукой и пошел по своим делам.
Мальчик остался один. Ни одной мысли не было, в голове образовалась пустота. И в душе тоже было пусто. Пережитый страх спрятался куда-то глубоко, чтобы потом, по капельке проявлять себя во снах. Здесь было безопасно, и от этого чувства наступила какая-то вялость. Есть не хотелось, но он механически отщипывал от хлебной горбушки кусочки и жевал их, не ощущая вкуса.
Какой-то сидящий неподалеку мужчина интеллигентного вида, в очках, с седой бородкой, уставился на него, а затем громко и горько произнес, обращаясь, наверное, сам к себе:
- Это не война. Война, - это когда есть или победа, или поражение. А тут…. Отступать не могут, наступать не могут. Встали на одном месте и перекидываются снарядами туда-сюда… Это не война, это просто убийство друг друга!
Мальчик ничего не ответил. Но мужчине и не требовался ответ. Он еще долго говорил, но уже тихо, шёпотом, словно спорил сам с собой, словно доказывал себе что-то. Может быть, сегодня или вчера он потерял кого-то из близких, может у него сгорела квартира, его кусочек вселенной, и теперь он пытался осознать, осмыслить произошедшее. Тут у каждого была своя беда. Рядом с ним молодая женщина укачивала на руках годовалого ребенка, ребенок плакал, а она шептала ему на ухо что-то нежное и успокоительное, видно говорила, - «не бойся, мама рядом, мама с тобой, сейчас и навсегда», - но ребенок был еще слишком маленьким, чтобы оценить значение этих слов. Он продолжал плакать.
Как только мальчик перевел взгляд на эту женщину, перед глазами мгновенно возникло лицо его матери. Это было мучительно. Прикрыв глаза, облокотившись спиной на колонну, он безжалостно и правдиво давал отчет своей совести в том, что он наделал. Раньше он отгонял от себя эти мысли, - да и было не до того, теперь же, в безопасности, мысли о маме стали главными. Он только сейчас начал осознавать последствия своего безрассудного поступка.
Почему-то он изначально решил, что мама, не увидев его в подвале, останется сидеть на месте и терпеливо ждать его возвращения. Кто ему сказал, что будет именно так?
Может быть, в эти самые минуты, она, оставив дочь на соседей, ищет его на пустых улицах. Страх душит её, но материнские чувства сильнее, и она мечется между домами под обстрелом, не зная, куда ей бежать, в какой стороне её сын. А сумерки все ближе, и скоро весь город погрузиться во тьму.
Внезапно вспомнилась мертвая женщина, которую он видел полчаса назад. Представилось, как она неподвижно лежит, занесённая снегом, в полной темноте. Кто-то ждет её дома, волнуется, и еще думает о ней, как о живой. Над крышами сливающихся с чернотой домов то тут, то там мерцают красноватые вспышки, доносится гул ударов, а она лежит безучастная ко всему, - еще сутки назад живая и куда-то спешащая, и вокруг нее уже собираются собаки.
И представилось, что на пустынной улице, из-за него сейчас может точно также лежать его мама. Это было невыносимо. Пусть бьет, пусть ругает, пусть плачет, - лишь бы была жива, лишь бы не выходила из подвала. Страшно было даже представить себе обратный путь домой, но мальчишка уже знал, что иначе поступить он не может.
На стене перед ним висела икона, - Матерь Божья держала на руках своего Сына. Электрический свет искрился на позолоченном окладе, пятном лежал на лике Богородицы.
- Матерь Божья, защити, – шептал про себя мальчик, и ему казалось, что глаза Богородицы вели с ним какой-то беззвучный диалог, обещали ему, что все будет хорошо.
Надо было идти. Тело не желало вставать и тем более покидать церковный подвал, ноги были как ватные. Последние минуты он сидел, опиравшись спиной о колонну, и терпеливо копил силы. Потом встал и, чувствуя подкатывающий к горлу комок дурноты, зажав в руках две буханки оплаченного страхом хлеба, прошел по подвальному помещению, поднялся по крутой лестнице наверх и, никем не остановленный, вышел из храма.
В подвале девятиэтажного дома по улице Кирова жёлтыми огоньками горело несколько свечей. Невидимое за серыми тучами солнце скатилось на запад, наступили сумерки, тусклый дневной свет в отдушинах угас. В подвале было совершенно темно, свечи слабо освещали лишь маленькое пространство вокруг себя, бросая отсветы на низкий потолок.
Стрелять почти престали, на улице лишь иногда слышались редкие одиночные выстрелы. Люди устали от разговоров, в подвале стояла полная тишина. Поэтому все услышали, как наверху хлопнула входная металлическая дверь в подъезд.
А затем спускающиеся вниз шаги.
Мама его не ругала. Она никуда не выходила из подвала, молилась и ждала. В темноте не было видно, но коснувшись её лица, мальчик почувствовал, что оно мокро от слез. И лицо сестренки тоже было мокрым. Мальчишке не пришлось ничего объяснять, хлеб сам сказал всё за себя. Скорее всего впереди будут и крики, и истерика, ему придется отвечать за пережитый ими страх, но пока они лишь беззвучно плакали все втроем, переживая чувство светлой радости: тот самый миг, который люди зовут счастьем, словно сын был мёртв и воскрес, пропал и нашёлся.
Потом они ели хлеб, в подвале было темно, с северных окраин доносились звуки далеких пулемётных очередей. Весь город исчез в черноте ночи, над городом раскинулось беззвёздное небо, дальше в полной темноте растворялась степь и занесенные снегом деревушки с редкими огоньками в окнах.
Еще дальше, в двухстах километрах от города, на границе ярко светили прожектора и стояли многокилометровые очереди машин с беженцами. Там начиналась совсем другая реальность, другое время, - двадцать первый век, там возникали в ночи, залитые светом города, где дети слушали на ночь сказки, а молодежь, выбирая свои пути, спорила о смысле жизни. Для мальчика в подвале Горловки этого вопроса вообще не существовало. Потому что тайна смысла жизни кажется наивной, если ты живешь для других.
Скачать рассказ Николая Гаврилова "Хлеб" в формате PDF >>>
(просмотров 2805)
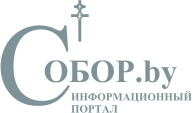
 ГЛАВНАЯ
ГЛАВНАЯ
 ФОТО
ФОТО ВИДЕО
ВИДЕО АУДИО
АУДИО НОВОСТИ
НОВОСТИ РАСПИСАНИЕ
РАСПИСАНИЕ