Белорусский экзархат Московского патриархата
VSR.SOBOR.by Приход храма иконы Божией Матери
"Всех скорбящих Радость", Минск
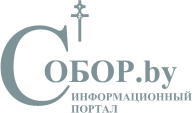
Архимандрит Савва (Мажуко): Взрослых людей не существует
В этом году лауреатом премии «Христианские традиции в культуре и образовании» МОО «Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла» от священнослужителей стал архимандрит Савва (Мажуко) - насельник Гомельского Никольского монастыря, известный читательской аудитории по замечательным статьям, опубликованным на сайте «Православие и мир», в журналах «Альфа и Омега», «Фома», «Ступени», «Сретение», «Минские епархиальные ведомости». Зрительской аудитории отец Савва известен как автор и ведущий программы «Свет Невечерний» и участник программы «Встречи со священником» на телеканале «СОЮЗ».
Совсем недавно на портале «Православие и Мир» было опубликовано большое интервью с отцом Саввой «Взрослых людей не существует». Этот ёмкий материал, в котором отец Савва просто и очень живо говорит о самом главном, мы публикуем и на нашем сайте.
Публицист, богослов, проповедник, в палитре текстов которого самые разные образы и цитаты – из святых отцов, великих поэтов и сказок о муми-троллях; монах, вот уже почти двадцать лет подвизающийся в одном из монастырей Белоруссии, и даже архимандрит, а в душе – мальчишка, не перестающий удивляться и радоваться этому потрясающему Божьему миру. Архимандрит Савва (Мажуко), насельник Свято-Никольского мужского монастыря города Гомеля, один из постоянных авторов «Правмира» – о жизни и смерти, о красоте и детстве, о том, как он стал монахом, о вере в Бога и труде любви.
Руки Отца
– Читая ваши тексты, кажется, что вы знаете, как здорово, будучи взрослым – монахом и даже архимандритом, – оставаться ребенком в восприятии мира, когда знания и опыт не затмевают искренность, не мешают продолжать удивляться и радоваться. Поэтому, если возможно, я хотела бы начать этот разговор с вашего детства. Есть ли у вас какое-то детское воспоминание, к которому вы возвращаетесь? Есть ли какой-то образ, который помогает вам сохранять в себе это детство?
– Но детство – это ведь опыт не всегда положительный, часто и отрицательный. У меня есть сон, который мне снится очень часто: я должен писать контрольную по алгебре, и я ее никак не могу написать. Это ведь тоже опыт детства, да?
Мне нравилось учиться, и я к учебе относился очень легко. И вот, представьте себе, такой сон. Видимо, какие-то, может быть, тревожные состояния моего взрослого опыта во сне возвращаются к этому жуткому переживанию контрольной по алгебре. Опыт детства, он ведь очень разный.
Поэтому я не склонен идеализировать и говорить о том, что ребенок – это какое-то особое существо. Именно в детстве мы все получаем опыт счастья и горя. Но ребенок, наверное, привилегированнее взрослого человека в том, что он счастлив в любом случае.
Каким бы ни было трагическим детство, мы все именно там получаем опыт счастья. Потом мы его начинаем искать. И ищем всю жизнь. Но мы бы его не искали, если бы не знали, что это такое. Ребенок в детстве счастлив, рад очень простым, очень банальным вещам, просто тому, что он есть.
Мне понравилась одна история в книге Берта Хеллингера, очень интересного психолога, о его приключениях в Африке. Одно время он был там миссионером, и его совершенно поразили зулусы, такое оригинальное племя.
Им навязывали цивилизацию (и ничего в этом плохого не было), приучали к чему-то, помогали справляться с болезнями, с какими-то социальными проблемами, но у них сохранялось свое мировосприятие.
Вот Хеллингер приводит такую историю замечательную. Сидит зулус на земле, сидит себе, посиживает, Берт гуляет рядом и озадаченно смотрит на этого товарища, который просто сидит в праздности, ничего не делает.
Ну, для нас, европейцев, это странно – просто так сидеть, нужно читать какую-нибудь газету, разгадывать кроссворд, размышлять, писать, смотреть Интернет, листать телефон. А зулус просто сидит. Вот Берт к нему подходит и говорит: «Слушай, тебе не скучно?» Он говорит: «Ну как же мне может быть скучно, ведь я же живу».
Так и у ребенка: его опыт подлинный, настоящий – это опыт просто жизни, который взрослые теряют постепенно, но этот опыт может потом проявляться в каких-то образах детства.
Я почему-то очень запомнил один момент своего пребывания в пионерском лагере: когда мне стало плохо, наш тренер подхватил меня на руки и понес в медпункт. Это был момент истины: что меня несут над головами других детей, на руках, вот так заботливо, осторожно, сочувственно, и все так на меня смотрят… Это незабываемо.
Мне кажется, для верующего человека, для христианина этот опыт – ощущение рук Отца – вообще, наверное, самый центральный, важный. Ведь мы, когда умираем, вываливаясь из этого мира, падаем на руки Отца. Поэтому христиане смерти не боятся – ни своей, ни своих близких.
Ценность всех вещей
– Вы рано начали читать? У вас такая широкая палитра начитанности, которую вы используете в своих текстах и проповедях…
– Ну, сложно сказать, когда я начал читать и что именно я читал в детстве. Я просто читал и читал. И есть вещи, которые мне нравятся. И тут даже проблема, потому что мне нравится слишком много на этом свете – и в кино, и в литературе. И просто даже общаться с людьми, беседовать, чай пить.
– А как это «слишком многое» соединяется с вашим пониманием христианства, которое многими воспринимается, как некий уход от мира, ограничение? Ведь есть «единое на потребу», зачем это «очень-очень многое»? Не может ли оно мешать, отвлекать, заполнять душу чем-то другим?
– Но ведь Евангелие говорит – ищите, прежде всего, Царствия Небесного, и все остальное приложится. Оно не говорит, что все остальное отвалится, исчезнет. Приложится. То есть, обретая Христа, мы по-другому начинаем видеть весь мир, понимаете?
Мне кажется, что путь христианина – путь личной аскезы и преображения зрения. То есть мы начинаем вдруг видеть, прозревать. Неслучайно, наверное, в Евангелии от Иоанна есть образ прозрения слепого – такой насыщенный, такой важный, таинственный, загадочный образ.
Просто постепенно, знакомясь с Христом, мы прозреваем, потом начинаем знакомиться со своими ближними, и через это, в конце концов, находим свое лицо и начинаем видеть подлинную ценность других вещей. Подлинность «многого» можно увидеть только в Свете Христовом, и по-настоящему полюбить эти вещи. Но иногда сначала случается их разлюбить.
Знаете, какое-то время я занимался вокалом и пел (и сейчас пою и регентую, правда, чуть поменьше). В вокале есть такой принцип: когда педагог занимается со своим студентом, ставит голос, то сначала он разрушает его манеру петь, а потом из этих первоэлементов собирает настоящий голос.
Постановка голоса – это возращение к естественному звучанию голоса, к новому открытию тех даров вокальных, которыми Господь наделил человека. Потому что все студенты, которые занимались вокалом, на первом курсе обычно «вешаются», потому что они вообще разучиваются петь. Им запрещают петь в хоре, вообще запрещают петь, они совершенно теряют эту способность.
Вот и христиане, мне кажется, когда приходят ко Христу, они теряют сначала вкус ко всему. И это нормально. Многие даже бросают работу, свои увлечения, музыку. Появляется такой максимализм аскетический, но в нем нельзя, конечно, задерживаться.
Один мой приятель, когда стал ходить в церковь, перестал стихи писать. Раньше писал очень хорошие стихи, а тут – раз! – и перестал. И ничего с ним нельзя было сделать. Только по прошествии многих лет он как-то начал опять потихонечку возвращаться к творчеству. То есть, отказ – это необходимая ступень некоторого аскетического самоограничения.
Но это только ступень, ее нужно перейти, чтобы потом вернуться к настоящему. Увидеть и почувствовать настоящий вес этих вещей, звучание, увидеть, насколько все в мире прекрасно по-настоящему.
Почему мы к книгам постоянно возвращаемся? Один знакомый рассказывал, что спорил с одним своим другом, который принципиально не держит дома книги. Он был уверен: плохие держать не следует, а хорошие я храню у себя в уме и сердце. И все же к книгам же мы возвращаемся, потому что с каждым годом мы меняемся, и какие-то вещи мы просто не в состоянии были раньше увидеть.
Точно так же и во Христе мы начинаем по-настоящему видеть красоту каких-то произведений, замечать красоту общения, даже вкус пищи меняется. Дети ведь не могут оценить красоту хорошего вина, им подавай газировку, а когда ты взрослеешь, обретаешь вот эту способность различать вкусы, радоваться им. Это совсем другое. То же самое и тут: мы растем, мы разбираемся. И никогда не перестаем быть детьми.
– Но, кажется, многие перестают быть детьми…
– Да нет… Знаете, есть такое выражение «злой мальчик». Сидит взрослый дядька, надулся, сердитый, злой, может какие-то гадости делать периодически, но он от этого не перестает быть ребенком. Взрослых людей не существует, я так думаю.
Родился – трудись над собой!
– Да, суть христианства, крещения – в умирании и восстановлении, в рождении совершенно нового человека. Но ведь все мы несем в себе человеческую историю, генетический код. Каждый человек – это мама, папа, бабушка, дедушка и так далее, до 12-го колена, до Адама. Вот что делать с этой наследственностью, за которую ты, кажется, не отвечаешь?
– Но мы же не сами по себе, мы растем на каком-то дереве, которое хранит опыт предыдущих поколений. У меня недавно родился племянник, четвертый племянник, и вот у нас в семье шок, который не проходит уже несколько месяцев, потому что этот малыш – вылитый дедушка. Когда его увидел, я просто стоял, растерявшись: ну вылитый дедушка!
И когда я на него смотрел у меня родилась мысль: ведь мы не оригинальны, мы повторяем черты своих предков – и цветом глаз, и формой черепа, манерами, поворотом головы. Даже появившись вновь, тело хранит память – и положительную, и отрицательную. И эти навыки, эти желания какие-то, непонятные нам самим страсти, болезни, вкусовые пристрастия – это все в нас остается.
Господь нам доверяет в этом, не совсем нашем, теле жить. Ну что ж? Замечательно! Вот и сражайся, борись, ищи свое настоящее. Пускай ты взял уже готовый материал, но, творя на нем, мы это тело постепенно превращаем в свое. И эти привычки, которые мы заимствовали, взяли взаймы, мы тоже превращаем в свои: или отказываемся, сражаемся с ними, или же освящаем себя, преображаем их.
Посмотрите, как радовались люди, если у них в семье появлялся священник или был монах в роду. Я и сейчас встречаю простых людей, которые лишены способности к какой-то философской или богословской рефлексии, но они, кажется, кожей чувствуют, как это здорово, что в их роду есть молитвенник, в этом большом ветвистом дереве семьи есть какая-то очень здоровая ветка, от которой на все прочие ветви распространяется доброта, святость.
Это же замечательно: родился – давай трудись над собой, прекрасно, что за тобой стоит целый род. Самое главное, когда человек женится, выходит замуж, он сам становится в начало, у истока рода. Это совершенно потрясающее, мне кажется, ощущение – осознавать, что от тебя дальше растет какая-то ветвь, и ты стоишь у ее истоков. По-моему, это головокружительная мысль.
– К этой мысли меня привел один гид в Иерусалиме, он говорил: «Представляешь, вот ты тут стоишь, а рядом с тобой стоят твои прабабки, прапрабабки, которые только мечтали оказаться на этой Земле? Ты представляешь всю ту ответственность, которую ты в себе несешь? Каждый день ставь заупокойную свечу за всех бабок». И я ходила по Святой Земле с совершенно новым чувством понимания себя, как части семьи, рода, человечества…
– А ведь не только прабабки. Мы забываем, что род идет вперед. Вот моя прабабушка прожила 100 лет, у нее на всю жизнь остался в памяти эпизод, которым она гордилась, как она в юности пешком ходила в Киев.
Один раз в жизни это было, но на всю жизнь она запомнила вот это пешее паломничество. Из Киева она принесла икону, молитвослов, который у нее всю жизнь лежал у изголовья, на тумбочке возле кровати. Она его принесла в своих руках, она этот подвиг вынесла.
И, наверное, каким-то образом и я тоже был там с ней, и все мои племянники, и тот, который родился совсем недавно. К несчастью, это родовое чувство сейчас очень сильно вымывается, нас приучают к мысли, что мы сами по себе, что мы сами выбираем свой путь. Нет…
– А у вас дружная семья? Вы дружите с родителями?
– Да, дружу. Но я не скажу: дружная – не дружная, мне сложно сравнивать с чем-то. Но семья у нас очень большая, у меня очень много родственников, но мирно живем, да. У меня три брата, мы очень разные люди, но у нас никогда нет конфликтов.
Да, хорошая, по-моему, семья у нас. По крайней мере, очень веселая. Все большие юмористы и любят петь. В детстве после ужина мы оставались за столом и начинали что-нибудь такое петь очень громко, все вместе.
– А какие песни? – Разные. Вот что вспомнится, то и поем. Потому что, вы знаете, проблема всех любителей пения – песню любишь, а слова не всегда знаешь. И поэтому, что поется, то и хорошо.
Я жив!
– Когда вы говорили, о подлинности вещей, вспомнился вес листочка в раю, описанный Клайвом Льюисом в «Расторжении брака». Помните, когда человек, пришедший из пространства инфернального, где его окружали безвесные фантомы, оказывается в раю, он не может поднять даже маленького листочка, настолько он реален, весом… Так каждый листочек, травинка, каждая песня может восприниматься сущностно, а можно выстроить вокруг себя города-фантомы…
– Один из моих самых любимых авторов Рэй Брэдбери написал книгу, которая, наверное, невозможна вообще была в литературе. Я не знаю, что можно даже рядом поставить с этим произведением. Это «Вино из одуванчиков». Текст, мне кажется, во-первых, революционный; во-вторых, неоцененный по достоинству.
И революционность его заключается в том, что это первый текст с таким позитивным содержанием, который, не перечеркивая трагичность жизни, высвечивает то, что, наверное, в русской философии называется софийным взглядом на вещи. Радость быть без проклятий, без укоров, без скорби.
12-летний Дуглас Сполдинг, один из главных героев «Вина из одуванчиков», совершает удивительное открытие. Он никак не может найти его формулу, он не может понять, что он открыл. И потом звучит его фраза: «Я жив!»
Это самое чудесное в романе! В начале «Вина из одуванчиков», когда Дуглас бежит, он чувствует, как соки наполняют растения, как у него в руках лопаются грозди дикого винограда, как они катятся с братом Томасом по траве, дубася друг друга с какой-то жеребячьей радостью. И он рад этому, он чувствует, он преисполнен вот этим таинством жизни.
Этот текст я почему-то соотношу с «Тошнотой» Сартра. Там герой тоже совершает открытие: «Я жив!», но это вызывает у него тошноту. И это не ново в культуре. У Сенеки, например, в письмах вы тоже найдете это описание тошноты от того, что ты жив.
Знаете, это два совершенно разных таких образа восприятия себя и мира, и Бога даже, которые сгустились в разных мифологемах или иконических образах. Даже ведь в религии есть свои образы парадигм и форм, в которых воплощаются эти два идеала: миролобызающий и мироплюющий.
В прошлом году скончался замечательный русский философ и поэт Вадим Рабинович. У него есть стихотворение, в котором есть такие строки:
…И перецеловал все вещи мирозданья.
И лишь тогда отбыл в несказанный глагол.
Это стихотворение посвящено глаголу «умереть». Он говорит о том, что нельзя сказать о том, что я умер, используя перфект, то есть в совершенном виде. Человек, который говорит: «Я умер», – врет. То есть это совершенное действие уже: раз ты умер, значит, умер. Да, об этом еще Стендаль говорил, это известная мысль в европейской культуре.
Но меня поразила эта фраза: «И перецеловал все вещи мирозданья. И лишь тогда отбыл в несказанный глагол», – то есть умер. Человек, который живет этим открытием «я жив!», не мироплюющим идеалом, а миролобызающим, он готов перецеловать все вещи мирозданья, потому что не только природные вещи достойны удивления и восхищения, переживания, но и просто человеческие.
И у Брэдбери такая интуиция тоже присутствует. Ведь люди не сразу умирают, их вещи, на которых сохранилось их дыхание, отпечаток их руки, они продолжают жить. И человек чуткий испытывает благоговение даже перед предметами, которые держал другой человек, – перед чашкой любимой мамы, или вазой бабушки, или станком, на котором работал его отец, ружьем, которым он пользовался. Все вокруг хранит их отпечаток, потому что вещи впитывают человека, не отпускают его насовсем. И это удивительно.
И какие бы скорби нас ни постигали, откровение о том, что «я жив!» – это нечто совершенно удивительное, может быть, это даже основа того, что мы называем счастье.
Форма, в которой себя проявляет вера
– Один современный богослов сказал, что христианство – самая материальная из всех религий. Вхождение Бога в человеческую жизнь, в человеческую плоть и теперь вечное пребывание Бога в материи – это соединение таинственное, необъяснимое, несказанное, действительно нераздельное – оно призвало человека весь мир снова привести к Нему. И поэтому каждая чашка, каждый листок – это очень ценно.
Кажется, что современное общество (и с одной стороны, с религиозной, и с материальной) так часто об этом забывает. Вот скажите, если у вас понимание… один мой друг задает такой вопрос на одном телевидении: что такое вера и что такое религия? Одно ли это? Или это разные вещи? И почему должна быть религия?
– Я думаю, религия и вера – очень разные вещи, разного порядка. Знаете, как мы килограмм и километр не ставим, скажем, в одну плоскость – это разные меры разных вещей, в разных порядках бытия. Вот религия – это некоторая форма, в которой человек осуществляет свою веру.
И христианство – это не религия, хотя в христианстве есть религия. Религия представляет собой набор разных культурных универсалий. Например, мы сейчас находимся в храме, так вот храм или монастырь – это тот кристалл, та форма, в которой себя проявляет вера человека или общества.
Или, например, институт священства, институт монашества – это все некоторые религиозные формы, которые вы найдете в любой абсолютно религии. Если религия более-менее развита, значит, в ней появляется храм, жреческое сословие, какой-то вид монашества со своим уставом, с аскезой, с духовными упражнениями. Появляется ритуал, обряд, и так далее. Это абсолютно нормально.
Но вера – это нечто, что обнаруживается в формах, что не может быть неоформлено, понимаете? Но мы должны различать эти вещи. Можно быть религиозным человеком, но не быть верующим. Можно быть верующим человеком и стремиться проявить свою веру в религии, но не всегда это и не у всех получается.
Вы сейчас привели мысль, что христианство – самая материальная из религий, я бы сказал, что это не совсем точно, потому что христианство, наверное, самая софийная религия. Софийная в том смысле, что Бог никогда не отпускал мир, никогда его не оставлял, Он никогда ему не был чужим. Бог никогда не был чужим не просто духу человека, но и материи. Вот в этом смысле – да, можно сказать о том, что мы, действительно, религия священного материализма.
Но откровение христианства – оно гораздо глубже, чем различение материи и духа. Все гораздо основательнее, органичнее. Христианство мы постигаем только в каком-то личном опыте, может быть, даже почти семейных отношений с Богом.
Красота – это одно из имен Божьих
– А вы помните вашу точку встречи с Ним?
– Да, конечно. Таких моментов у меня было в жизни несколько, и я думаю, что самые интересные еще впереди. Но самый важный такой момент, для меня ключевой – это, конечно же, встреча с преподобным Сергием Радонежским.
Я был нецерковным человеком, рос в обычной советской семье, и однажды мне в руки попала книга Бориса Зайцева о Сергии Радонежском. Очень простой текст, ни на что не претендующий, но меня почему-то это настолько сразило, что я, наверное, несколько месяцев ходил под огромным впечатлением красоты, которая лилась с этих страниц, проявлялась из образа этого человека. Ничего более красивого в жизни я не встречал.
И это был опыт встречи с Небом, опыт встречи с прекрасным, потому что красота – это одно из имен Божьих.
Конечно, можно было подвергнуть этот опыт какому-то анализу – психологическому, психиатрическому, какому угодно – но это было. Даже, может быть, в нашем неподлинном опыте иногда просвечивает что-то настоящее, что-то значительное, поэтому я думаю, что какой-то залог встречи с Богом у меня был.
Монах на ладошке
– А когда вы приняли решение о принятии монашества?
– Вот тогда и принял.
– Все в один момент произошло – и встреча с Богом, и определение пути?
– Конечно. Я понял, что монашество – это и есть тот образ жизни, который мне подходит, и я всю жизнь буду под покровом Сергия Радонежского. Кстати сказать, я никогда прежде не чувствовал аскетического призвания. Да и сейчас я – не монах, а скорее сочувствующий все-таки. Как и не христианин, а, скорее, сочувствующий, потому что, ну, как-то я не решаюсь на настоящие подвиги…
– Извините, вы – архимандрит, это звучит уже так солидно…
– Это просто звучит. И все. Не люблю это слово, кстати. Для меня было большим огорчением, когда меня решили возвести в эту лишнюю степень, как я считаю, совершенно лишнюю. Лишнее слово, очень некрасивое. И если отменят вообще этот титул, будет просто прекрасно.
– А как вас звали раньше? Как вы пережили перемену имени? У вас произошло это умирание и воскресение в новом человеке?
– Вы знаете, у меня это все было очень просто, без всякой романтики, лирики. Есть люди, которые по жизни идут как-то величественно, у меня же все всегда происходило комично. Наверное, и будет дальше происходить. Я совершенно не против этого.
Мой приятель, который недавно постригся, рассказывал, что испытал какой-то почти животный ужас накануне пострига, он весь содрогался от какого-то нечеловеческого трепета. Он прожил долгую жизнь, непростую, очень интересную, но никогда такого не переживал.
Вы знаете, монашеский постриг начинается с того, что кандидат в монахи в белой рубашке ползет по дорожке, покрываемый мантиями братии со свечами в руках, во время пения тропаря «Объятия Отча». И вот у меня, как только я лег на эту дорожку и начал ползти, ужас тут же исчез, и я почувствовал, что я лежу… на ладошке. На какой-то теплой, очень такой уютной ладошке, которая меня держит. И мне уже не хотелось ни ползти, ни делать что-то – просто наступило такое умиротворение и детская такая радость, которая истребила все мои страхи и сомнения.
Я таких вещей никогда не испытывал, скажу вам сразу. Все произошло как-то быстро, неожиданно. Мне вообще было очень мало лет, еще и 19-ти не было. То есть постриг мой – это какое-то недоразумение чистой воды, и я бы не советовал никому никогда постригать молодых людей в таком возрасте. Я убежден, что постриг должен совершаться много позже, не ранее 30 лет.
– Так, мне кажется, и в древности было.
– В древности было по-разному. Всегда все было по-разному, но в наше время, я считаю, постриг должен совершаться после тщательного испытания. Вот я читал в книгах, что монах должен что-то чувствовать, может быть, рыдать о грехах, но мне было просто немного страшно, удивительно и непонятно, и никаких романтических чувств, потрясений, я вам честно скажу, я не испытал.
–А личностные перемены были?
– Монах – такое тонкое существо, что он должен пройти очень долгую школу. Его нужно воспитывать, взращивать. Знаете, у Григория Сковороды есть такая фраза: «О риза, риза! Как немногих ты опреподобила!». То есть то, что тебя одевают в монашеское облачение, меняют имя, еще ничего не значит.
Это просто некий залог того, что в будущем ты будешь достойным учеником и освоишь уроки. Я не знаю, освоил ли я урок, хорошим ли я учеником оказался, но монашество – как раз тот самый образ жизни, который мне подходит, я в нем не сомневался никогда, и менять его я не собираюсь ни в коем случае. Я оказался, по-моему, на своем месте. И слава Богу!
Вылущивать смыслы
– Мы с вами говорили о том, что человек несет в себе печать поколений – прошлых и даже будущих. Вот сейчас много говорят, что надо возвращаться к традициям. Но этих прекрасных традиций так много! Традиции первой христианской общины, традиции византийские, греческие, традиции восточного аскетизма. Потом, распространяясь в каждую страну, христианство обретало свои новые традиции. К чему же возвращаться? Что такое традиция, и надо ли к ней возвращаться?
– Я думаю, все-таки нужно смотреть вперед. Мы очень часто смотрим назад и принимаем за нечто подлинное просто некоторые культурные формы. Если мы хотим возрождать культурные формы, ну что ж, мы превратимся в такой заповедник гоблинов, культурные гетто.
Когда я был еще семинаристом, мне один епископ говорил как-то: «Ты одет не по-православному». Меня эта фраза как-то так озадачила, я над ней долго очень размышлял, до сих пор размышляю: а как должен быть человек одет по-православному? Что это значит?
На самом деле наша задача – всегда вылущивать смыслы, находить подлинные значения каких-то образов. Я неслучайно упомянул о различии веры и религии. Религии могут меняться. И для меня здесь опыт первой христианской общины наиболее подлинный и значительный.
Апостол Павел, совершивший революцию в христианском богословии, показал, что одна вера может находиться в двух различных религиях. Помните конфликт иудеохристианства с христианами из язычников? Вот эту тему следует подробно и очень вдумчиво изучить. Я не знаю исследований, может быть, они и есть, мне просто не попадались, которые бы подробно, доходчиво и с богословской глубиной эту проблему анализировали.
То есть, была вера Христова, было живо первое христианское поколение, свидетели, апостолы. У одних христиан из иудеев эта вера оформлялась иудейской религией, они продолжали ходить в храм, соблюдать субботу, совершали обрезание, соблюдали другие многочисленные правила, законы Моисеевы и так далее. У христиан из язычников – и это апостол Павел настойчиво постоянно подтверждал, подчеркивал, акцентировал – была другая религия, другие ритуалы, но та же самая вера.
Вы только представьте себе жизнь первых христиан из язычников, насколько они были вырваны из привычной культурной религиозной среды. Это у нас сейчас есть Пасха, календарь, мы знаем, когда начинаются посты, а когда заканчиваются, когда можно есть мертвых кур, когда нельзя, как ставить свечки, куда идти на исповедь. У нас родился ребенок, юноша с девушкой решили пожениться, человек умер – мы всегда знаем, как это оформить религиозно, представить, пережить свою радость или скорбь в некоторой религиозной форме.
У первых христиан из язычников этого ничего не было: ни календаря, ни обрядов, у них не было даже священного Писания, символа веры не было. Это все позже выкристаллизовывалось в поиске новых культурных форм путем заимствования в иудейской обрядности, в римской, в греческой.
В эту новую религию привносились элементы неоплатонизма, даже какие-то здоровые идеи гностицизма (ведь есть тоже своя правда и у гностицизма). Таким образом, в первые века христианства мы видим одну веру в двух различных религиях.
Этот опыт нуждается в современной рефлексии, потому что здесь, мне кажется, кроется зерно правильного отношения к другим конфессиям. Мы, например, спорим с католиками иногда: наши паломники приезжают в католические храмы – им разрешают служить литургию, но когда католические паломники приезжают в наши православные храмы, здесь, на Руси, им никто никогда не разрешит служить литургию, ни в коем случае. Даже, как это недавно в Дивеево было недавно, выгоняют из храма, что, по-моему, совершенная дикость.
Мы должны над этим размышлять, потому что мир стал ближе, культуры стали настолько рядом, что теснят друг друга. И мы не можем просто закрыться в культурно-религиозном гетто, мы не можем выбросить из поля зрения христиан других конфессий, говорящих на других языках. Это наши братья и сестры.
И наш опыт религиозной оформленности гораздо ближе к христианам из иудеев, чем опыту христиан из язычников. Ведь у одних и у других была совершенно разная обрядность, совершенно разные подходы к смыслам. А мы очень часто здесь спорим с католиками из-за каких-то глупостей, не доходя до догматической глубины. Ну, это отдельный разговор.
Презумпция доброты
– Так что делать нам сегодня с традициями? На какие традиции ориентироваться? Что поддерживать, а от чего спокойно отказаться, как от временного? Но так, чтобы, как это тоже часто бывает, с водой не выплеснуть и ребенка? Известно о жизни одного современного подвижника, основавшего православный монастырь в Европе. Когда он был жив, все было органично, в духе свободы и в рамках традиций, но как только он ушел из этой жизни, все стало разлетаться… Форма, скелет помогают держать и тело, и душу, и даже сохранять ее наполненность…
– Конечно. Формы должны быть. Поэтому я считаю, что каноны, дисциплины церковные, нуждаются в защите, в заботе, в поддержке, их нельзя произвольно менять. И, конечно же, нужно относиться к этому ко всему бережно.
Но наше дело – трудиться. Труд состоит в том, чтобы и в своей жизни, и в церковной практике всегда находить значительное, чтобы отличать главное от второстепенного, всегда видеть и хранить самую суть Христовой веры.
Но это труд должен быть постоянным, методичным, с любовью. И не нужно делиться на партии: вот эти – обновленцы, а эти – консерваторы, вот этих поминаем, а вот на этих нужно навешать анафему. Я не так давно узнал, что и меня причислили к обновленцам…
Есть такой сайт Антимодернизм.ру, где люди тщательно вычитывают мои тексты, критикуют их. Ну зачем же? Мы ведь должны дружить. И если вы читаете статьи своего оппонента, читайте честно, пытаясь различать мысль, которую он говорит, пытаясь понять.
Вы знаете, мне кажется, для христианина очень важно приучить сердце свое и разум к презумпции доброты. Прежде чем судить другого человека, взвешивать его поступки, как-то оценивать, примерять их к себе, нужно исходить не из осуждения, то есть сразу с отрицания, а с установки миролюбия и начинать общение с попытки понять. И прежде чем осудить, нужно сначала оправдать, найти правду, даже, может быть, в каких-то вещах, которые вам глубоко несимпатичны.
Еще раз повторю, человек может быть религиозным, но не верующим. И этот опыт хорошо известен, от него следует всегда убегать. Как в завещании, которое нам апостол Иоанн Богослов оставил: «Дети, бегайте идолов».
Наша вера, религия – это мед, который постоянно засахаривается. И каждое поколение должно эту корку ломать, чтобы к меду снова и снова добираться. Не может быть какого-то универсального обряда, форм или же традиций, которые будут абсолютны.
На Поместном соборе 1971 года, когда снимали клятвы со старообрядцев, в соборном определении прозвучала такая фраза: «Признать обряды старообрядцев равноспасительными».
Понимаете, обряд не может быть спасительным, просто не может. Обряд – всего лишь некоторая форма, в которую мы можем вложить все, что угодно, но сам по себе обряд не может быть спасительным, как и какая-то определенная традиция в ее культурном измерении, конечно же.
Потому что традиция в широком смысле – это жизнь Духа Святого в Церкви, Предание церковное. А традиция, например, Сербская, Румынская, старорусская, ношение каких-то косовороток, например, или же молитвы по каким-то особым четкам, выполнение поклонов, правил и так далее – это все должно всегда находиться в каком-то трепетном предотрицании.
Очень легко превратить в идола и богословскую систему, и богословский язык, и набор каких-то текстов, и ритуалы, и обряды, и в этой своей категоричности просто действительно, как вы сказали, выплеснуть ребенка вместе с водой.
У нас другой истории нет
– В ветхозаветный период религиозная национальная идея была народообразующая. Всевышний специально выделил семью, род, народ для хранения подлинного знания о Нем. Но во Христе знание о Боге стало открыто всем народам, Он раскрыл национальные границы. Когда Он пришел в Иерусалим, многие ждали Его как национально-религиозного героя-освободителя. А Он пришел для выполнения другой миссии, Он вывел человечество на новые взаимоотношения с Богом, наднациональные. И первые христиане – и из иудеев, и из язычников — должны были это осознать, что Царство Христово – не от мира сего, что все теперь призваны быть не патриотами какой-то страны, а гражданами Царства Небесного. Но прошло несколько столетий и уже воцерковленное человечество снова вернулось к религиозно-национально-культурным связкам…
– Это проблема биографии, скажем так, биографии конкретного народа. Нельзя, например, русским не быть православными, я считаю. Потому что наш народ появился вместе с православием. У нас другой истории просто нет. Это справедливо и относительно болгар, и французов, и англичан, и немцев. Другого быть не может. И поэтому, если мы сейчас утратим веру, мы утратим и свое национальное лицо.
Поэтому я считаю, например, что для русского государства, – может быть, это очень категорично вам покажется, – очень важно перестать играть в демократию, равенство религий. Русский народ православный. Исходя из ценностей нерелигиозных, мы этого обосновать не можем, но жить по-другому никак нельзя.
Здесь есть, конечно, тонкая грань, можно и тут до идолослужения дойти, и уже были уже в истории опыты такие. Но мне кажется, для болгар, для русских, для греков есть только один путь – наша вера. Православие – источник нашего права, нашей государственности, догматика нашей Церкви, нравственное богословие нашей Церкви, откровения Божественные, которые мы храним вот в этих формах. Ну, это, конечно, тема для отдельного разговора.
Труд любви
– В своих статьях, эссе, проповедях вы так много говорите о том, что это главное в Христианстве – закон любви, и если из всей этой сложной системы жизни – церковной, исторической, догматической — исчезает любовь то вообще ничего не остается. Одна из ваших работ называется «Любовь и пустота»…
– Любовь – это дар. Ее нельзя заслужить, нельзя добиться какими-то нашими усилиями. И я думаю, что наша задача – просто учиться любить. В семье, в обществе, в Церкви мы, прежде всего, сначала должны учиться малому, очень простым вещам – просто любезности.
Например, у нас люди часто не здороваются друг с другом. Считается, что поздороваться несколько раз с одним человеком за день – это как-то избыточно, мягко говоря. Следует начинать с простых вещей: учиться быть добрыми, стараться быть добрыми, вести себя как добрые люди.
Я когда служу Литургию, мне очень нравится момент, когда над перенесенными Дарами священник веет покровом. Я поначалу думал: «Что это за такая процедура? Зачем так нужно веять?»
Конечно, есть свои исторические обоснования этого действия, но для меня, например, этот образ связан с чем-то детским. Знаете, когда дети не знают, как сказать о чем-то, и они показывают руками. Так и мы показываем жестами: «Вот так вот сделай! Господи, пошли Духа Святаго! Я не знаю, как это происходит, не знаю, как Ты это, Господи, делаешь, но прошу Тебя, сделай это».
Так и в нашем подвиге… Конечно, подвигом это назвать трудно, просто наш труд любви. Апостол Павел такую фразу употребляет постоянно: «Труд любви». Вот мы должны трудиться, вести себя, по крайней мере, так, как ведут себя люди, которые любят друг друга, уважают друг друга.
Начинать нужно с простых вещей – с дружбы, доброты, чувства долга, ответственности, взаимного уважения. Попросили тебя что-то сделать – сделай как следует. Если ты несешь ответственность за какую-то организацию, за общество, за семью – делай это как следует. И вот этот труд любви, может быть, однажды превратится в любовь.
Нам важно избежать вот такого «розового христианства», когда мы эмоциональную взвинченность нашу принимаем за любовь и доброту. Мир трагичен. И мы далеко не добрые люди.
Вот у меня три брата. Наверное, люди, у которых есть братья и сестры, согласятся со мной, что хотя бы раз в жизни у вас возникало желание расправиться с ними. Да, время от времени у нас появляется желание кого-нибудь прибить, расправиться с кем-нибудь. Мы просто люди, такие, какие есть. Но Господь нам доверяет прожить жизнь достойно, и не нужно пренебрегать такими простыми вещами, как чувство долга, уважение.
Мне кажется, любая семья нормальная должна именно зиждиться не на влюбленности, не на эмоциях, а просто на чувстве долга. Ты – мужчина, ты стоишь у истока рода, ты должен заботиться о своей жене, ты должен заботиться о своих детях, потому что ты несешь очень важную миссию, и поэтому ты – уважаемый человек.
У нас эта категория «уважаемый человек» сейчас вообще исчезла. Когда говорю «уважаемый человек», мне говорят: «Ты, наверное, с Кавказа приехал, да?» Ведь уважаемый человек – это, например, священник, учитель, врач, это человек, который много трудился и заслужил уважение. Всякий мужчина, который достойно воспитывает своих детей, защищает свою женщину, заботится о родителях – это уважаемый человек.
Это очень просто, и не нужно каких-то подвигов особых, не нужно далеко идти, в какую-то эйфорию впадать. Живи достойно, в простоте, трудись, делай дело своими руками, строй семью на чувстве долга и уважении. Просто уважайте друг друга, а потом, если у вас все будет получаться, если вы будете терпеливы в этом труде, Господь пошлет и любовь. Это настолько простые, но глубокие вещи, которые, могут быть весьма показательны. Но если ты самого простого не пережил, не достиг, ты никогда не узнаешь большего.
И то же в отношении детей. Корней Чуковский к своему «Крокодилу» сделал такое посвящение: «Моим многоуважаемым детям». Понимаете, «многоуважаемые дети»! Но и детей нужно приучать к уважению к родителям. Они не сами по себе, они не слуги, в известном смысле, для родителей.
Мне очень нравилось в старой русской литературе, что дети обращались к своим родителям по имени-отчеству, вставали в их присутствии. Совершенно простые вещи, но этому надо учиться и учить. Например, приучить ребенка молчать, когда взрослые разговаривают.
В моем детстве, например, если был какой-то семейный праздник (а у нас семья гигантская просто), детям накрывали отдельно, они никогда не слушали взрослые разговоры. Встревать в разговоры между взрослыми считалось просто неприлично.
А современный ребенок чаще всего ведет себя так, будто он – центр вселенной, и все должны на него обращать внимание. Это уже неправильно, каждый должен знать свое место, ребенок – свое место, взрослый – свое. И все призваны проявлять взаимное уважение, доброту, любезность, учтивость. Это очень важно, без этого фундамента ничего не будет.
Вы можете созидать себя в любви, постигать какие-то мистически энергии, творить в себе синтез какой-нибудь, языками будете говорить, но если вы не будете элементарно бороться за доброту, то ничего не будет.
Об этом писал еще Антоний Великий. Вы можете найти его слова в «Добротолюбии»: да, можно молиться, но если ты за доброту не будешь бороться, не будешь стараться о том, чтобы быть кротким и смиренным, ничего не будет. Ты не будешь ни кротким, ни смиренным. Молиться будешь, но будешь оставаться злым человеком. Вот какой ужас-то, понимаете. Можно быть религиозным, молитвенным, даже чудеса творить, а внутри в тебе будут сидеть эти лягушки.
Быть взрослыми больно
– Ведь любовь всегда что-нибудь замещает, а ведь бывает ощущение пустоты. Или это только ощущение? Что такое пустота? Вот в западном аскетическом богословии, есть понятие «темной ночи», когда, кажется, вообще полный мрак, и ты один.
– Нет такой категории пустоты. Есть тьма. И вообще, нравственное богословие – это самая неразвитая у нас отрасль богословского знания, к сожалению.
Когда-то Папа Иоанн Павел II выпустил обращение к специалистам по нравственному богословию, вот нам бы так. Ведь богословы – это уважаемые люди, их нужно поддерживать, нужно носить на руках, они у нас должны жить в теремах, ни о чем не заботиться, только писать книжки, исследовать вопросы разные, а не скитаться по редакциям, чтобы выторговать какую-то копеечку…
Все очень сложные темы. Одно скажу, что Господь попускает нам оказываться в окружении этой тьмы, и нужно научиться с этим жить и принимать мужественно. Быть взрослыми больно, но к боли надо привыкать.
Если ты хочешь быть взрослым, привыкай к боли. К боли расставаний, предательства, разлук, одиночества. В семье тебя могут уважать, и ты будешь пытаться уважать других, дружить, и все равно внутри будет какой-то надрыв. Непонятно, почему. Иногда Господь просто попускает это состояние, которое может длиться годами.
Я знал таких людей, очень хороших, у которых не прекращалась депрессия, но они научились с этим жить, и эту боль принимать с благодарностью. Не знаю, зачем это дается, нужно просто доверять Богу. Раз Господь мне дает это, если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно. И здесь то же самое: ничего, переживем, выживем…
Вспоминается такой анекдот… Может быть, тут не совсем уместный, может быть, это больше иллюстрация белорусского характера… Фашисты схватили трех партизан – русского, украинца и белоруса, и повесили их. Утром выходят – двое умерли, а белорус висит и одним глазом так по сторонам смотрит. Они говорят: «Ты что, живой?» Он говорит: «Ну да. Трохі прыціснула, а потым прывык». То есть придавило, а потом привык. Вот так и живем.
Да, бывает так, что придавит, но не нужно паниковать. Господь попускает нам серьезные скорби, серьезные испытания – ничего страшного. Наши предки выдерживали гораздо больше.
Представьте себе жизнь без новокаина, без обезболивающего, даже без туалетной бумаги, простите, без шампуней, а они так жили, нормально, ничего. Ведра носили, стирали на реке и были счастливы, и были уважаемые люди, которые прожили достойную жизнь. С болью, с больными руками, с неисцелимыми какими-то заболеваниями. Я таких людей, которые мужественно эту боль переносят, встречал неоднократно. Я преклоняюсь перед ними.
А мы сейчас живем хорошо очень. Боже мой, депрессия у тебя! Но не голодаешь же, все-таки. Пломбы во всех зубах и на машине на работу ездишь, и одеваешься хорошо, не холодно. Ну что ж, ничего. Депрессия – тоже мне, причина расстраиваться.
Не героизм, а подвижничество
– Сейчас, когда рядом идет война, так стремительно в воздухе разлилась ненависть. Еще недавно все были, если не близкими друзьями, но соседями, а сейчас многим кажется, что кругом – враги…
– Знаете, злым быть проще. Гораздо проще. Очень просто быть обиженным. Люди, которые занимают такую позицию, придерживаются вот такого стиля, так трепетно блюдут свою позу, потому что это очень удобно. Главное – это лень. Да, это все от лени, к сожалению. Есть у нас такой изъян серьезный, который описывал отец Сергий Булгаков в статье «Героизм подвижничества».
Почему наш народ как-то очень легко умирает? Легко сказать, дайте мне какую-нибудь идею, я тут же пойду, за нее умру, живот свой положу, еще что-нибудь положу, – все, что угодно. Но вот методический, монотонный, терпеливый многолетний труд – нет, лучше не надо. Я все, что угодно, буду делать, только не трудиться. Это проблема, которую отец Сергий Булгаков описывал относительно интеллигенции, но мы сейчас все интеллигенты кругом.
Есть два стиля жизни общества, два идеала (если это идеалы, конечно) – героизм и подвижничество. Вот нам нужен сейчас не героизм, а подвижничество: терпеливое созидание своей культуры, своего общества. Не на демонстрации выходить, говорить: «Вот, там что-то разрушается, где-то кто-то ворует».
Если ты христианин – пожалуйста, будь добр, видишь ты, воруют чиновники, сам стань чиновником. Если ты видишь, что культура разрушается, займись культурой. Ты видишь, что проблемы на телевидении или в науке – не удирай за границу куда-нибудь, не уезжай жить во Флоренцию, где ты будешь выдавать населению лодки, а трудись здесь.
Но этот труд, как вы понимаете, монотонный, постоянный. Как и в науке, например, гении встречаются редко, а нужно каждому выполнять свою долгую, длинную, нудную работу, за которую, может быть, один раз тебя где-то упомянут в научном журнале, но медаль вряд ли выдадут.
И нужно приучить себя к этой работе, тогда не будет времени на эти все бесконечные обвинения, что кто-то кому-то что-то должен…
Вот я живу в Белоруссии, но никому из белорусов в голову никогда не приходило предъявить Украине претензию относительно Чернобыльской АЭС, сказать: «Ну, у вас взорвалось, а подуло к нам». Вся Белоруссия загрязнена просто чудовищно, у нас огромные пахотные земли просто не используются из-за последствий аварии.
У нас и так бедная страна, маленькая, нет ни моря, ни океанов, ни гор, ничего, но никому даже в голову не приходило сказать: «Вот, Украина виновата. Давайте поставляйте нам апельсины бочками». Нет!
Надо трудиться и просто учиться дружить, учиться уважать друг друга. И я совершенно не понимаю той озлобленности, которая присутствует и стой, и с другой стороны. Мне это совершенно непонятно. И я считаю, что это идет просто от лени.
А христианину вообще нельзя злиться, нельзя ненависти питать. Когда я слышу, про какой-то церковный раскол, что кто-то призывает отколоться от патриархии, предать анафеме, то ужасаюсь. Ну, разве мы, ученики Христовы, так можем поступать, руководствуясь просто ненавистью, обидами? Мне кажется, это неправильно.
Хотя это вопрос очень сложный. И здесь одной фразой не обойдешься. Я понимаю, что вот я говорю слова, а сам про себя делаю бесконечные оговорки. И это вопрос непростой.
Но еще раз говорю: если наши люди, лично я, и каждый из нас, особенно христиане, не поймут, что необходимо многолетнее, если не столетнее, подвижничество, наше общество никогда не выйдет из своих проблем. Никогда. Мы так и будем все сидеть, обвинять других, порицать власти. Раз человек во власти, значит он уже, по определению, плохой.
Ну как же так? Давайте выращивать детей, студентов, давайте делать им карьеру, помогать им становиться у власти, воспитывать гражданскую ответственность.
Недавно одна дама с болью в сердце мне рассказывала о том, как в одном из малых русских городов гибнет памятник архитектуры. «Вот как это так, как это власти допустили?» Но откуда берутся власти? Давайте встанем и будем друг другу рассказывать, что гибнет памятник архитектуры.
Но есть же цивилизованные методы: можно собрать подписи, опубликовать статью, сделать фоторепортаж, заявить об этом, собрать средства, волонтеров и в конце концов просто спасти этот памятник. Не разговаривать, не поливать грязью губернатора или еще кого-то, а делать дело.
Хотя я никого не оправдываю, у всех у нас есть свои изъяны, но необходимо просто научиться делать свое дело. Тихо, спокойно, кропотливо делать маленькое дело. Почему-то хочется гигантских подвигов, как в сказке: из одного рукава река вылилась, из другого – лебеди. Такие вот очень полезные рукава хорошо иметь, но наше дело маленькое. Мы должны строить хоть по чуть-чуть, понемножку, и все получится. Просто настрой себя на труд, на боль и благодарность. Вот так.
Учиться взаимному смирению
– Мне кажется, вы очень верите в человека.
– Доверяю просто. Просто выхода нет. Ну кому еще доверять? Что, ежикам, что ли, доверять? Вот есть люди, которые есть, и других нам не дано, и ниоткуда, с Марса или с Юпитера, других не выпишешь, не поменяешь. Вот они, наши современники, со своими проблемами, какие есть, такие и есть.
– Наверное, вы много общаетесь с российскими современниками, с белорусскими. Есть какая-то разница в наших сообществах, в церковных сообществах?
– Вы знаете, Россия такая разная. Когда я приезжаю в Москву, я себя специально настраиваю. Когда приезжаешь в другую страну, ты думаешь: уже давно по-английски не разговаривал, надо бы восстановить язык, надо, хоть настроиться, чтобы рот как-то привык.
Вот москвичи (только не обижайтесь) – это особый народ. Приезжаешь в какой-нибудь другой город – там другие люди, но Москва очень сильно отличается. У меня много друзей среди образованных, интеллигентных москвичей, и я заметил, москвичи очень категоричны. И это их отличает от белорусов, например.
В Белоруссии люди попроще, помягче. Белорусы, как это ни странно звучит, толерантные люди – терпимые и спокойные. Иногда даже кажется, что они такие флегматичные или даже безразличные. Нет, просто они очень стеснительные.
А москвичи довольно категоричны в суждениях, в обвинениях, и, наверное, переоценивают свои возможности. Но я люблю очень москвичей. Когда приезжаю в Москву, на меня многое оказывает очень ионизирующее воздействие. Здесь можно поговорить на какие-то темы интересные, сложные, смелые, которые, например, среди моих друзей в Белоруссии даже порой не вызовут интерес.
Но, знаете, всем нам нужно учиться взаимному смирению. Но вообще, среди христиан, с которыми я общаюсь в Москве, в Белоруссии, в других частях России, так много прекрасных людей. Мне нравится выражение «добрый христианин». Вот я общаюсь с такими людьми очень часто.
В каждый мой приезд в Москву появляются новые знакомые, и среди них большинство – это добрые христиане. И вот тут у меня источник оптимизма и надежды, потому что вокруг много добрых христиан. Просто внимательных людей, заботливых. Неожиданно заботливых, приветливых и добрых. И это замечательно!
Своим детям в воскресной школе я даю одно задание, простое духовное упражнение: утром встали, пошли зубы чистить, и как только вы себя в зеркале увидите, опознаете, кто там стоит, вы сами себе скажите несколько раз: «Я добрый», просто напомните себе об этом.
Потому что часто бывает, особенно утром, у людей бывает такое тучное, дымящееся, угрожающее настроение. И если у человека обычного есть свой какой-то современный стиль жизни, у христиан есть обязанности. Быть добрым – обязанность.
И поэтому мы должны каждый день себя настраивать, вопреки боли, скорби, вопреки, например, совершенно обоснованному права на обиду, как бы то ни было – настраивать себя на доброту.
Вот этой категории в нашем православном обиходе нет совершенно: мы как-то не говорим про доброту. Смирение, послушание, кротость, нестяжание, какие-то другие добродетели у всех на устах. Все эти аскетические свойства могут поселиться в нас, как птицы, было бы, где…
У нас в монастыре очень много скворечников, просто ужас, целый лес скворечников. Так вот, чтобы скворцы прилетели, нужны скворечники. Вот чтобы добродетели христианские – такие изысканные, тонкие – поселились, для них должен быть скворечник элементарной человеческой воспитанности, культуры, честности.
Если этого не будет – ну не прилетят к тебе птицы. Покружатся, не найдут пристанища и улетят. Так что давайте строить скворечники!
sobor.by/ www.pravmir.ru.
(просмотров 5513)
Новости разделов:


